Неврологические заболевания. Источники ошибок диагноза. Лекция для врачей
Лекция для врачей "Неврологические заболевания. Источники ошибок диагноза" (отрывок из книги "Неврология: избранные работы" - Аствацатуров М. И.)
Главные источники ошибок в диагностике нервных болезней
Надо постоянно видеть больных! Этот афоризм знаменитого французского клинициста не только не утратил своего значения, но, быть может, особенно уместен в настоящее время, когда обнаруживается ясная тенденция к механизированию диагностики и предпочтению так называемых «точных» лабораторных методов исследования перед клиническим опытом. Пример неудавшейся попытки свести всю проблему диагностики сифилиса к Вассермановской реакции может служить доказательством тому, что отдельный лабораторный метод не может заменить анализа всей совокупности клинической картины данного случая заболевания. Главной школой врача должно быть то самое место, где протекает его деятельность: у постели больного. И эта школа лучше всего гарантирует врача от диагностических ошибок. «На одну ошибку вследствие незнания приходится десять ошибок вследствие недосмотра»; «беда большинства врачей заключается не в том, что они недостаточно знают, а в том, что они недостаточно видят». И для того, чтобы уметь хорошо видеть, надо постоянно упражняться в этом, т.е. следуя завету Труссо, надо постоянно видеть больных.
Суждение врача о природе заболевания начинается с первого общего впечатления, производимого больным. При некоторых заболеваниях диагноз может быть поставлен иногда по этому общему впечатлению (Augenblicksdiagnose diagnostic par distance)-, сюда относятся: дрожательный паралич, мышечная дистрофия, прогрессивный паралич, спинная сухотка и др. В ясно выраженных случаях этих заболеваний общий вид больного, выражение лица, походка бывают иногда настолько типичны, что предположительный диагноз может быть поставлен уже до опроса и исследования больного. Но этот диагноз на расстоянии всегда должен быть предположительным, и на первом общем впечатлении, без подробного опроса и объективного исследования, никогда не следует основывать окончательного суждения о природе заболевания.
Во время эпидемии летаргического энцефалита в Ленинграде один врач просил меня посмотреть больную, у которой, по его словам, наблюдаются слюнотечение и двоение в глазах; я сейчас же высказал предположение, что дело, вероятно, идет об энцефалите. Когда эта больная пришла ко мне, при первом же взгляде на нее я, на основании наличия у нее вялости лицевой мускулатуры и двустороннего птозиса, был близок к полной уверенности в правильности моего предположительного диагноза, поставленного «за глаза». Однако достаточно было больной рассказать о ходе ее заболевания и о том, что у нее наблюдается быстрая утомляемость речевой мускулатуры при разговоре, а также жевательной и глотательной мускулатуры при еде, то я убедился, что мой диагноз «за глаза» и «по первому впечатлению» был совершенно ошибочен, и что дело в данном случае идет не об эпидемическом энцефалите, а о миастении. Объективное исследование и дальнейшее наблюдение вполне подтвердили этот диагноз.
В психологии «первого впечатления» в более широком смысле кроется еще один источник диагностических ошибок. Он заключается в том, что первое впечатление, завладевая сознанием врача, лишает его объективности и превращает его дальнейшее изучение случая в стремление подтвердить полученное впечатление. На такого рода ошибки указывает П. Стюарт. «Став с самого начала на ложный путь, — говорит автор, — мы продолжаем держаться его, поддерживая свой первый диагноз, стремясь подвести все разнообразие клинических черт под раз составленное представление». Выходом из этого положения П. Стюарт считает консультацию с другим врачом или повторное исследование после отказа от всякой предвзятой идеи.
Нередко источником ошибок являются неточные анамнестические данные. Вопрос о том, как началась болезнь, для многих нервных заболеваний имеет решающее значение. Как часто ставится ошибочный диагноз «ишиас» в случаях тазовой или внутрипозвоночной опухоли только потому, что игнорируется вопрос о форме развития заболевания (медленно-прогрессирующее при опухоли, острое — при ишиасе); то же самое относится к целому ряду других заболеваний центральной и периферической нервной системы. Следует отметить, что на этот, казалось бы, очень простой вопрос о том, началась ли болезнь внезапно или постепенно, не всегда легко получить точный ответ, поэтому во многих случаях приходится прибегать к повторным вопросам, для того чтобы из подробных описаний составить представление о форме развития болезни.
Иногда больные непонятным образом «забывают» весьма существенные анмнестические данные; в особенности это касается сведений о сифилисе и душевных заболеваниях в семье.
Несколько лет тому назад мне пришлось исследовать больную, страдающую легкой формой депрессивного состояния; осмотр производился в присутствии сестры больной. На мой вопрос, наблюдались ли у них в семье душевные болезни, обе сестры дали категорически отрицательный ответ. Когда в течение дальнейшей беседы больная хотела припомнить дату какого-то события своей жизни, она, обращаясь к сестре, сказала: «это было, когда ты находилась в лечебнице доктора К.» (психиатрическая лечебница). Когда я спросил сестру больной, по какому поводу она находилась в этой лечебнице, выяснилось, что она страдала психическим расстройством. Об этом факте обе сестры странным образом забыли в тот момент, когда я им задал вопрос о душевной заболеваемости в их семье. Быть может, фрейдовская «цензура» вытесняет из сознания больных воспоминания о душевных болезнях и сифилисе.
Что касается сифилиса, то неупоминание о нем или отрицание его больными имеет более глубокие причины: не говоря уже о тех случаях, в которых больные не знают о бывшем у них сифилисе, иногда отрицание бывшего сифилиса происходит bona fide, так как больные думают, что у них был не сифилис, а «шанкр», или что сифилис у них совершенно излечен. Мне приходилось наблюдать такие случаи, когда больные отрицали существование у них сифилиса, считая, что они совершенно излечились от него и что упоминанием об этом мнимо излеченном заболевании они могут навести врача на неправильный путь. Вот почему при опросе относительно сифилиса лучше спрашивать больных не только о сифилисе, но и о шанкре или «язве», а также справляться о методах лечения этой язвы. О косвенных указаниях на сифилис (выкидыши и т.п.), а также о различных проявлениях его в прошлом мы здесь не упоминаем.
Существенным источником ошибок или затруднений диагноза могут служить неточности жалоб больных, неправильная характеристика наблюдающихся у них симптомов. Так, нередко больные неточно употребляют термин «болит», применяя его как синоним расстройства функции вообще. В особенности это касается больных, которые всякое нарушение функции, например, паралич, расстройство координации и т.п., определяют выражениями «болят ноги», «болит рука» и т.п. Этими выражениями, имеющими целью указать на наличие расстройства в том или ином органе, больные вводят в заблуждение врача, давая ему повод предполагать у них наличие болевых симптомов, которые на самом деле отсутствуют.
Иногда больные не упоминают о некоторых расстройствах, имеющих весьма важное значение для диагноза. Так, например, временные расстройства мочеиспускания, наблюдающиеся в течение рассеянного склероза, преходящие состояния двоения в глазах при том же заболевании часто забываются больными и не сообщаются ими без специального вопроса по этому поводу. Hyperhydrosis paradoxa наблюдается, по-видимому, при сирингомиэлии гораздо чаще, чем это отмечается самими больными; поэтому при подозрении сирингомиэлии всегда желательно ставить больным вопрос, не бывает ли у них потливости без чувства жара или даже при ощущениях холода.
Больные, страдающие гемианопсией, обычно характеризуют свое расстройство как утрату зрения на правый или левый глаз. В некоторых случаях больные не замечают имеющейся у них гемианопсии, и последняя обнаруживается лишь объективным исследованием поля зрения.
Отсутствие двигательной инициативы и медленность движений, свойственные паркинсонизму, характеризуются обычно больными как «слабость».
Некоторым жалобам и анамнестическим данным приписывается иногда слишком патогномоническое значение. Сюда относятся, например, жалобы на ночные боли; сифилитические периостальные боли усиливаются по ночам, но не всякие боли, появляющиеся или усиливающиеся по ночам, имеют сифилитическую природу. Боли при хроническом ревматизме также усиливаются по ночам. Особенно следует помнить о ночных болях в ногах у детей («боли роста», Wach-stumsschmerzen). Не испытывая никаких болей днем, ребенок после более или менее продолжительного сна просыпается с плачем вследствие болей в ногах. Такие ночные боли детей, не представляющие ничего серьезного и проходящие с течением времени сами собой, могут быть легко приняты за сифилис.
Для диагноза целого ряда органических заболеваний центральной нервной системы весьма важное значение имеет анамнестическое указание на бывшие расстройства мочеиспускания. Однако при вопросе об этих расстройствах в случае утвердительного ответа всегда необходимо выяснять природу этих расстройств. В этом отношении следует иметь в виду, во-первых, возможность местных причин для расстройства мочеиспускания (стриктуры канала, гипертрофия предстательной железы и т.п.). В период 1918-1921 годов у многих наблюдались явления частых и настойчивых позывов на мочеиспускание; причина их недостаточно выяснена; объяснить их употреблением сахарина едва ли возможно, так как эти состояния поллакиурии наблюдались и улиц, совершенно не употреблявших саарин. Как бы то ни было, нам приходилось убеждаться, что нередко больные на вопрос о бывших расстройствах мочеиспускания отвечают утвердительно, имея в виду упомянутую поллакиурию, которая, конечно, никакого существенного значения для диагноза органического заболевания не имеет.
По моим наблюдениям, больные очень часто отвечают утвердительно на вопрос о двоении в глазах в тех случаях, когда настоящей диплопии у них не имеется; при более подробном опросе в таких случаях выясняется, что дело идет о слиянии букв при чтении, о неясности зрения и т.п.; поэтому никогда не следует ограничиваться утвердительным ответом, а лучше удостовериться, какой предмет видел больной вдвойне.
Большая осторожность требуется при оценке заявлений больных о зависимости их симптомов от психических воздействий, волнений, настроений и т.п.
Делать лишь на основании такого рода заявлений вывод о функциональной природе заболевания не следует. Необходимо твердо помнить, что и органические симптомы могут изменяться под влиянием тех или иных психических воздействий. Почти всякий больной с дрожательным параличом указывает, что в присутствии посторонних и при волнении дрожание у него увеличивается. Многие больные с рассеянным склерозом ходят гораздо лучше, когда на них никто не смотрит. То же самое наблюдается при целом ряде других органических заболеваний нервной системы.
Не меньшая осторожность требуется и при заключении о функциональной природе заболевания на основании заявлений больных или их окружающих о возникновении болезни под влиянием психических переживаний. В этом отношении необходимо иметь в виду следующее: во-первых, больные нередко искусственно связывают свое заболевание с психическим переживанием, иногда не только не связанным по существу с возникновением заболевания, но и настолько отдаленным от него по времени, что между ними, безусловно, не может быть никакой причинной зависимости. Во-вторых, нередко повышенная впечатлительность больного к разного рода внешним воздействиям уже есть результат существующего органического заболевания головного мозга, и реакция субъекта на известное внешнее воздействие есть результат уже существующей у него болезни, а не причина последней.
Во время эпидемии летаргического энцефалита нам пришлось наблюдать несколько случаев данного заболевания, в которых окружающие больных ставили его в связь с душевными потрясениями. Почти во всех этих случаях мы могли с полной достоверностью убедиться, что «душевные переживания» больных были не причиной, а следствием их основного заболевания и представляли собой проявление повышенной раздражительности, свойственной продромальной стадии некоторых случаев эпидемического энцефалита.
Наконец, следует иметь в виду, что существует особая категория больных, которые являются к врачу уже с готовой собственной патологией своего заболевания. Они уже заранее решили, что их болезнь развилась «на нервной почве», и, подгоняя факты под эту собственную патологию, они находят какой-либо фактор психического характера, которым стремятся объяснить свое заболевание и то же стараются внушить и врачу.
Ввиду всего сказанного мы бы всемерно предостерегали от приписывания сколько-нибудь существенного значения указаниям больных или их окружающих о причинной зависимости заболевания от психических факторов.
Недавно нам пришлось исследовать в клинике больную, направленную одним очень опытным врачом-терапевтом. Он предположил у данной больной истерию. Жалобы ее сводились к расстройству походки, чувству сжимания в горле и расстройству речи. Из анамнеза выяснилось, что несколько лет тому назад у данной больной после ограбления ее квартиры развился паралич обеих нижних конечностей, который очень скоро прошел. Настоящее заболевание сама больная и сопровождавшая ее родственница ставили в связь с душевным потрясением, вызванным потерей места по службе. Анамнез, а отчасти и жалобы больной наводили на предположение истерии; при исследовании оказалась ясно выраженная форма рассеянного склероза.
Нет, конечно, надобности напоминать о том, что во многих случаях однократное исследование больного может привести к ошибочному диагнозу, и исправление этой ошибки может быть достигнуто лишь повторными исследованиями, а иногда лишь внимательным наблюдением за ним. Иногда окружающие больного или внимательный больничный персонал дают весьма ценные сведения, подчас совершенно изменяющие создавшееся у врача сначала впечатление.
Однажды в одном из лечебных заведений, где я состою консультантом, во время обхода мне был показан больной, у которого имелись жалобы на общую слабость при отсутствии каких-либо органических симптомов. Больной был представлен мне в качестве неврастеника, и я, исследовав больного, согласился с этим диагнозом. При следующем обходе мне было сообщено, что наш диагноз был неправильным и что больной, которого мы считали неврастеником, на самом деле страдает легкой формой паркинсонизма; на правильный диагноз, как оказалось, мы были наведены сестрой отделения: наблюдая больного во время обеда, она обратила внимание на медленность его движений и указала врачам на сходство в этом отношении данного больного с другим, страдающим резко выраженной формой паркинсонизма. Видя больного лишь в палате, к тому же в лежачем положении, мы, врачи, не могли заметить признаков паркинсонизма, на которые обратила внимание наблюдательная сестра во время обеда.
Бабинский сообщает о следующем интересном случае, относящемся к тому периоду, когда диагностика мозжечковых заболеваний не была еще в достаточной мере разработана. В отделение поступила больная с жалобами на сильные головные боли; ввиду отсутствия объективных симптомов она была принята за страдающую истерией, так как у нее в прошлом наблюдались истерические припадки. В палате, куда была помещена данная больная, находилось еще несколько истеричных. Одна из них через несколько дней обратилась к Бабинскому со следующим замечанием: «Вы ошибаетесь, вновь поступившая больная вовсе не истеричная, она совсем не похожа на нас: она избегает всяких напряжений, лежит постоянно на постели или сидит в кресле, ни с кем не разговаривает, с трудом отвечает, когда с ней заговаривают, почти ничего не ест; она всегда грустна, замкнута; видно, что она страдает. Поверьте мне, это случай серьезный». Через некоторое время больная умерла, и вскрытие обнаружило опухоль мозжечка. Случай этот представляет большой интерес, во-первых, как иллюстрация психологии истеричных, отличающих себя от «серьезных» больных, а во-вторых, как пример ценных для диагноза данных, доставляемых окружающими больного.
Едва ли есть надобность останавливаться подробно на ошибках диагноза, имеющих в своей основе несоответствие между локализацией субъективных жалоб больного и локализацией болезненного процесса. Нам приходилось несколько раз наблюдать случаи неправильного диагноза неврита левого плечевого сплетения при отраженных болях в левую руку вследствие заболеваний сердца. Во многих случаях опухолей спинного мозга, в начальных стадиях ошибочный диагноз «невралгии» того или иного нерва или «ревматизма» наблюдается довольно часто. Объяснение «ревматизмом» табических стреляющих болей также не представляет собой редкости.
Ввиду весьма частого несовпадения между локализацией боли и обусловливающего ее патологического процесса представляется очень важным точное знакомство с распределением чувствительной иннервации и с областями отражения болей при заболеваниях внутренних органов (висцеросенсорный рефлекс).
Наиболее ценные данные для диагноза устанавливаются, конечно, путем осмотра и объективного исследования больного. Но и эти данные при неправильной оценке их и несовершенстве приемов исследования могут служить источником диагностических ошибок.
Не следует упускать из вида возможности врожденной асимметрии в иннервации различных нервов. Здесь прежде всего следует упомянуть о врожденной асимметрии иннервации шейных стволов симпатического нерва, приводящей к некоторой неравномерности зрачков. Нам известны случаи, где такая неравномерность зрачков давала повод к неосновательному предположению сифилиса, бесконечным исследованиям Вассермановской реакции и доводила больных до невроза и сифилофобии. Небольшая неравномерность зрачков наблюдается нередко, и если она не сопровождается деформацией их и изменением световой реакции, то не является указанием на сифилис.
То же следует сказать об иннервации лицевой мускулатуры: неравномерность ее наблюдается довольно часто у совершенно здоровых субъектов.
При исследовании адиадококинеза следует иметь в виду, что у многих субъектов физиологически наблюдается «отставание» одной (обычно левой) руки при продолжительных диадококинетических движениях.
Слабая степень нистагма наблюдается иногда у здоровых людей (особенно у курящих).
У детей астенической конституции иногда наблюдается отстояние лопаток, напоминающее scapulae alatae.
При объективном неврологическом исследовании необходимо иметь в виду следующие факты.
Отсутствие или резкая слабость сухожильных рефлексов на верхних конечностях наблюдается нередко. Коленные и ахилловы рефлексы почти абсолютно постоянны. Нам нередко приходится наблюдать случаи, направляемые в клинику по подозрению спинной сухотки вследствие мнимого отсутствия коленных рефлексов, причем исследование обнаруживает наличие коленных рефлексов. Ошибка объясняется обычно нецелесообразностью приема исследования коленных рефлексов. Весьма распространенный способ исследования коленных рефлексов в сидячем положении больного с перекидыванием «ноги на ногу» является в высшей степени ненадежным, ибо при таком приеме для разгибания в коленном суставе требуется значительная сила сокращения четырехглавой мышцы, а рефлекторное сокращение всегда имеет незначительную интенсивность; производя исследование коленных рефлексов по указанному способу без обнажения нижних конечностей, исследователь не может видеть имеющихся иногда незначительных совращений четырехглавой мышцы, и у него создается ошибочное впечатление об отсутствии коленных рефлексов.
Наиболее целесообразным способом исследования коленных рефлексов является исследование при лежачем положении больного на спине с обнаженными нижними конечностями: исследователь подводит левую руку под слегка согнутые в коленных суставах ноги исследуемого и наносит короткий удар по сухожилию четырехглавой мышцы. Еще выгоднее исследовать коленные рефлексы в том же горизонтальном положении больного на спине с перекинутой одной ногой через другую, но так, чтобы перекинутая нога касалась пяткой постели. Для исследования равномерности коленных рефлексов удобно пользоваться следующим приемом: больной находится в сидячем положении со свешенными ногами так, чтобы коленные суставы чуть заходили кверху от края кровати.
Ахилловы рефлексы удобнее всего исследовать в положении больного на коленях при свешивающихся стопах.
Бывает ли отсутствие коленных и ахилловых рефлексов без какого-либо патологического процесса? На этот вопрос нужно ответить утвердительно: в очень редких случаях коленные и ахилловы рефлексы могут отсутствовать без того, чтоб имелось налицо какое-либо заболевание. Однако эти случаи представляют собой настолько исключительную редкость, что при всяком с несомненностью установленном отсутствии сухожильных рефлексов лишь повторное и весьма обстоятельное и всестороннее исследование больного может дать право признать «физиологическое» отсутствие рефлексов. Что касается брюшных рефлексов, то они, по нашим наблюдениям, также отсутствуют «нормально» лишь в исключительных случаях; взгляд о сравнительно частом отсутствии брюшных рефлексов при вялости брюшных стенок основан, по нашему мнению, на несовершенстве техники исследования. И при очень вялых брюшных стенках можно получить рефлекс, если натянуть брюшную стенку, захватив ее в складку по средней линии, и оттягивать в сторону, противоположную стороне исследования рефлекса. Исследование лучше всего производить острым предметом (заостренное гусиное перо).
Неравномерность рефлексов имеет всегда патологическое значение; следует, однако, иметь в виду, что иногда причиной неравномерности рефлексов могут быть не первично нервные заболевания: так, брюшные рефлексы справа бывают ослаблены при хроническом аппендиците, после брюшного тифа.
Иногда за брюшные рефлексы ошибочно принимаются сокращения брюшной стенки, имеющие характер защитных рефлексов: при явлениях автоматизма спинного мозга раздражение брюшных стенок, как и других областей книзу от повреждения спинного мозга, может вызывать диффузные сокращения мускулатуры. Эти сокращения брюшной мускулатуры при автоматизме спинного мозга по своей природе являются совершенно отличными от брюшных рефлексов и представляют собой симптом значительного нарушения проводимости в спинном мозгу. Отличием этих «патологических» («защитных») брюшных рефлексов от нормальных являются следующие моменты: патологические брюшные рефлексы имеют более диффузный характер, сокращения мускулатуры при них имеют более медленный характер, скрытый период рефлекторного сокращения гораздо длиннее, чем при нормальных брюшных рефлексах; очень часто при этом вызываемые раздражением брюшных стенок сокращения брюшной мускулатуры со-провождаются сокращением мускулатуры нижних конечностей. Существование этих «патологических брюшных рефлексов» следует иметь в виду во избежание ошибочной локализации патологического процесса в спинном мозгу в результате принятия патологических брюшных рефлексов за нормальные.
Подошвенные рефлексы отсутствуют нередко в норме, особенно у субъектов с холодными цианотичными влажными стопами.
Симптом Бабинского представляет собой самый надежный признак повреждения пирамидных путей. Все предлагавшиеся модификации его значительно уступают оригинальному приему, предложенному Бабинским. Отсутствие этого симптома не исключает, конечно, заболевания пирамидного пучка.
Иногда в случае периферического паралича, особенно при полиомиелите, может наблюдаться «ложный» симптом Бабинского: вследствие паралича сгибателей пальцев ноги при сохранности функции разгибателей при раздражении подошвы получается реакция с сохранившихся мышц, т.е. с разгибателей; особенное сходство с симптомом Бабинского может наблюдаться в тех случаях, когда, как это иногда бывает при полиомиелите, из всей мускулатуры голени остается неповрежденным лишь т. extensor hallucis longus. У некоторых субъектов с большой подвижностью пальцев ног иногда при раздражении кожи подошвы наблюдается тыльная флексия всех или одного большого пальца. При известном навыке отличить это явление от настоящего симптома Бабинского нетрудно: при последнем движение большого пальца к тылу имеет более медленный характер. Во избежание ошибок всегда следует принимать во внимание другие симптомы поражения центрального двигательного неврона.
При исследовании чувствительности следует иметь в виду неравномерность распределения чувствительности в различных областях. При исследовании чув-ствительности на уровне сосков (т.е. 4-5 грудных сегментов), имеющем важное значение для диагностики ранних стадий tabes dorsalis, не следует упускать из виду, что в непосредственной близости к соскам, и особенно области сосковой пигментации, нормально наблюдается некоторая гипестезия кожной и болевой чувствительности.
Симптом Ромберга ничего патогномоничного для tabes dorsalis не представляет: он может наблюдаться при целом ряде других органических и функциональных заболеваний нервной системы.
Замедление пульса при опухолях головного мозга наблюдается далеко не так часто, как это можно думать на основании указаний в руководствах.
Довольно частым источником диагностических ошибок является истерия. По удачному выражению Ормерода, при истерии «мы судим по урожаю о почве и по почве об урожае», т.е. мы заключаем о наличии истерии по истерическим симптомам и, наоборот, заключаем об истерической природе симптома на основании наличия у данного больного истерии. Но само собой разумеется, что не всякое явление, наблюдающееся у истеричного больного, относится к истерии. Эта простая истина нередко забывается, следствием чего являются ошибки, иногда весьма неприятные. В этом отношении особенную опасность представляют те истеричные, у которых имеется наклонность к чрезвычайно обильным жалобам, чуть ли не ежедневно сменяющимся; вполне естественно, если врач, привыкший к этому разнообразию жалоб истерического характера, не отнесется с достаточной серьезностью к начальному симптому какого-либо органического заболевания и припишет его истерии.
Такого рода ошибкам в значительной мере способствует существующее издавна заблуждение, что истерия может симулировать «все». Современная невропатология, главным образом благодаря трудам Бабинского, опровергла эту точку зрения. Однако некоторые из относящихся сюда ошибочных представлений до сих пор еще не могут считаться вполне искорененными. Здесь следует особенно отметить существующее до сих пор ошибочное мнение о существовании истерической лихорадки или, как принято выражаться, лихорадки на «чисто нервной почве». При этом, конечно, имеется в виду не лихорадка, связанная с инфекционными заболеваниями нервной системы, не лихорадка, связанная с нарушением внутренней секреции (гипотиреоидизм), а повышения температуры, развивающиеся у впечатлительных субъектов под влиянием психических переживаний. Таких лихорадок не существует, и объяснение лихорадки зависимостью ее от «чисто нервной почвы» есть всегда диагностическая ошибка. Все сообщения старых авторов о чрезвычайно высоких температурах, наблюдающихся при истерии, являются результатом намеренного введения в заблуждение врача истериками или результатом нераспознания какого-либо инфекционного заболевания.
Ни истерия, ни психические переживания не могут нарушить теплорегуляцию до степени, выходящей за пределы нормальных цифр температуры. Лишь при существующем уже нарушении теплорегуляции вследствие какого-либо лихорадочного заболевания психические переживания могут содействовать некоторым колебаниям температуры в смысле ее повышения. Подчеркнем еще раз: истерическая лихорадка или так называемая лихорадка «на чисто нервной почве» есть всегда диагностическая ошибка, вернее, нераспознавание какого-то заболевания.
Современное направление медицины характеризуется значительным развитием лабораторных методов исследования. Для неврологической диагностики, лишенной непосредственных приемов исследования и ограничивавшейся в своих выводах, главным образом, косвенными методами, лабораторная диагностика представляла особенную ценность. Рентгенодиагностика, исследование спинномозговой жидкости, серологические исследования значительно расширили методику неврологической диагностики, дав возможность более или менее непосредственного исследования центральной нервной системы или, по крайней мере, окружающей ее среды. Нельзя отрицать того, что эти методы весьма существенно усовершенствовали неврологическую диагностику. Достаточно напомнить, что настоящая диагностика менингита стала возможной лишь после введения поясничного прокола; можно сказать без преувеличения, что исследование спинно-мозговой жидкости вполне гарантирует от ошибок при диагностике менингита (см. соотв. главу). Не следует, однако, думать, что все лабораторные методы отличаются полной безупречностью и что они гарантируют от диагностических ошибок. Переоценка их значения, в особенности в сочетании с некоторым пренебрежением к клиническим методам исследования, может служить источником диагностических ошибок, иногда весьма серьезных. На основании личного опыта я могу утверждать, что с данными Вассермановской реакции, как в крови, так и в спинномозговой жидкости, требуется большая осторожность. Зависит ли это от сущности самой Вассермановской реакции или от несовершенства методики ее в некоторых лабораториях, но в очень многих случаях ее результаты не соответствуют истинному положению вещей и потому могут быть источником диагностических ошибок.
Несколько лет тому назад к нам в клинику поступил больной с явлениями полной органической параплегии. Анамнез и объективное исследование не оставляли никакого сомнения в том, что дело идет об экстрамедуллярной опухоли. Никаких данных для сифилиса не было, и мы поспешили перевести больного в хирургическую клинику для операции. Прибыв в назначенный для операции срок в хирургическую клинику, я узнал, что больному там была произведена Вассермановская реакция в крови, которая дала положительный результат. Это обстоятельство значительно поколебало мою уверенность в диагнозе опухоли, и я готов был остановить операцию, для того чтобы применить курс антисифилитического лечения. Но было, к счастью, поздно: операция уже началась; результатом ее было обнаружение легкоустранимой экстрамедуллярной опухоли. Больной совершенно поправился: выздоровление было настолько совершенным, что приблизительно через год больной мог играть в футбол. Само собой разумеется, что такое полное выздоровление было обусловлено своевременностью оперативного вмешательства; а если бы мы, положившись на Вассермановскую реакцию, отсрочили операцию на 4-6 недель, то нарастающее сдавление спинного мозга могло привести к таким структурным изменениям спинного мозга, которые едва ли уступили бы последующему оперативному вмешательству. Не подлежит сомнению, что в описанном сейчас случае дело шло не об опухоли у сифилитика, а об ошибочном результате Вассермановской реакции.
Наглядной иллюстрацией недостоверности и противоречивости результатов Вассермановской реакции могут служить «больные», с которыми нам, невропатологам, приходится иногда встречаться. Особенность этих больных заключается в том, что на вопрос, на что они жалуются, они вместо ответа достают из кармана пачку карточек с результатами Вассермановской реакции, причем среди этих результатов можно найти противоречивые данные, начиная с отрицательных и кончая резко положительными. Для многих таких больных мучительные сомнения относительно существования или отсутствия у них сифилиса составляют единственное проявление болезни. Когда-то «на всякий случай» «для полноты исследования» им была произведена Вассермановская реакция: она дала слабо или ясно положительный результат; при дальнейших повторных исследованиях результаты получаются противоречивые, и у таких субъектов развивается настоящая сифилофобия. В последнее время идет речь о ятрогенных заболеваниях, т.е. о заболеваниях, порождаемых врачами; подобные сифилофобы служат одним из примеров такого ятрогенного заболевания.
Еще недавно считалось безусловной истиной, что при tabes dorsalis в спинно-мозговой жидкости всегда наблюдаются лимфоцитоз и повышенное содержание белка (реакции Нонне-Апельта, Вайхброта, Панди). Отсутствие этих реакций считалось обстоятельством, исключающим диагноз спинной сухотки. Не подлежит никакому сомнению, что есть совершенно типичные и неоспоримые случаи названного заболевания, при которых в спинномозговой жидкости ни лимфоцитоза, ни белковых реакций, ни коллоидных не получается. Наши наблюдения (совместно с д-ром Ароновичем) над материалом больницы им. Мечникова с несомненностью убеждают нас в этом.
Рентгенологические данные оказывают значительную пользу в диагностике некоторых заболеваний нервной системы. Но и здесь неправильная оценка или переоценка данных может служить источником важных ошибок. Существуют некоторые прочно зафиксировавшиеся, неправильные по существу положения. К числу последних относится, например, предположение, что расширение (увеличение) турецкого седла говорит с несомненностью за опухоль мозгового придатка, а отсутствие этого расширения говорит против названной опухоли. Это положение в обеих своих частях имеет лишь относительное, а не абсолютное значение. В настоящее время не подлежит сомнению, что как акромегалия, так и degeneratio adiposo-genitalis могут протекать без изменений со стороны турецкого седла, а с другой стороны, значительные деформации и изменения турецкого седла могут развиваться при повышенном внутричерепном давлении независимо от локализации опухоли или даже без опухоли при хронической головной водянке.
Поэтому, во избежание ошибок при диагнозе опухоли мозгового придатка или при исключении этого диагноза, никогда не следует руководствоваться только данными рентгеновского снимка и не упускать из виду, что рентгеновский снимок при всей его ценности является все-таки только вспомогательным диагностическим приемом, имеющим значение лишь при сопоставлении его с клиническими данными.
Особенно следует помнить, что для опухолей мозгового придатка характерна первичная атрофия зрительных нервов, а не застойные соски. Увеличение турецкого седла при явлениях застойного соска говорит скорее против опухоли мозгового придатка, чем за нее; мы упоминаем об этом потому, что нам приходилось наблюдать случаи ошибочного диагноза опухоли мозгового придатка на основании сочетания изменений турецкого седла с застойными сосками.
Нам приходилось также наблюдать случаи, где у больных, жаловавшихся только на головные боли при отсутствии каких-либо других клинических явлений, подозревалась опухоль hypophysis ввиду «небольшого» увеличения турецкого седла. С такого рода подозрениями следует соблюдать большую осторожность во избежание создания у больного фобии, как это нам пришлось наблюдать в одном случае.
О миелографии и энцефалографии будет упомянуто в соответствующих главах. Переходя к ошибкам в терапии нервных болезней, мы должны иметь прежде всего в виду, что большинство ошибок терапии в нервных болезнях, как и в других областях медицины, имеет в своей основе ошибки диагноза, так как терапия есть вывод из диагноза.
Но ошибки терапии могут иметь место и при правильно поставленном диагнозе. Одной из частых ошибок в терапии нервных болезней является игнорирование некоторых простых, но весьма существенных терапевтических факторов. Так, (нередко приходится видеть больных сухоткой спинного мозга, которым назначена гальванизация позвоночника, но не сделано указаний о правильном образе жизни, необходимости избегать физического утомления и т.п. После войны нам пришлось наблюдать немалое число случаев отсутствия восстановления двигательной способности после ранений периферических нервов, несмотря на полную регенерацию нервов; расстройство двигательной функции объяснялось тем, что не принимались меры против свисания конечностей и связанного с этим растяжения связок (особенно при параличах n. radialis и n. peronei). Как часто приходится видеть больных с артериосклерозом, которым не сделано указаний относительно режима и диеты, но назначены токи д’Арсонваля, действительность которых по меньшей мере сомнительна (Вакез и др.).
Подобных примеров игнорирования простых, но весьма важных терапевтических мероприятий можно было бы привести очень много. «Есть мало вещей, — говорит Линдсей, — более трудных, чем установление фактов в терапии. Ошибки смешения post hoc с propter hoc очень обильны. История медицины полна мнимых способов лечения». Это положение особенно применимо к области невропатологии, где мы имеем дело в большинстве случаев с хроническими заболеваниями, по существу прогрессивными, но нередко обнаруживающими в своем течении временные ремиссии. Если такие естественные ремиссии совпадают с назначением какого-либо метода лечения, возникает соблазн предположения между назначенным лечением и улучшением в состоянии больного взаимоотношений причины и следствия. А во многих случаях видимость такого улучшения представляет собой не что иное, как результат самовнушения со стороны больного и врача. Составив таким образом ошибочное представление о действительности известного средства, мы продолжаем его применять в дальнейших случаях.
Как и все люди, врачи могут быть подразделены на оптимистов и пессимистов. Этот связанный с конституцией врача душевный тонус может влиять на его выводы относительно эффекта терапии, а иногда и общего предсказания в отношении болезни. Но, оставаясь оптимистом или пессимистом, врач не должен утрачивать трезвой критики, разумного скепсиса, необходимого для правильных выводов из наблюдения. Сообщения о баснословных результатах лечения нейролюэса сальварсаном, которые появлялись в первый период «сальварсанной эры», могут служить примером такой утраты критики.
В числе источников диагностических и терапевтических ошибок в неврологии, как и в других областях медицины, следует упомянуть о моде. «Не подлежит никакому сомнению, — говорит Гутчинсон, — что в покрое платья Эскулапа существуют такие же моды, как и в более светских платьях». Автор приводит в своей статье следующие примеры модных диагнозов: «мы приписываем, — говорит он, — в одно время большинство людских страданий мочевой кислоте, в другое — аутоинтоксикации, ротовому сепсису, расстройству эндокринного баланса, авитаминозу» и т.п.
Действительно, в известные периоды времени некоторые воззрения приобретают характер какой-то моды. Не считаться с этими воззрениями или даже не увлекаться ими оказывается почти невозможным или, во всяком случае, «несовременным». Такому увлечению особенно легко поддаются молодые врачи, не выработавшие в себе достаточно критики.
Что ему книга последняя скажет,
То на душе его сверху и ляжет.
Поэтому совершенно прав Гутчинсон, когда он утверждает, что «поднося научную чашу молодому, следует выждать, чтоб осела пена».
Результатом такого увлечения современной точкой зрения являются, например, такие диагнозы, как «дисфункция щитовидной железы», когда дело идет о tabes dorsalis, диагноз гипотиреоидизма, когда дело идет о тромбозе мозгового сосуда. Мы могли бы привести еще немалое число примеров таких диагностических ошибок, зависящих от того, что вследствие чрезмерного увлечения «современной точкой зрения» просматривались хотя и не «современные», но совершенно ясные болезненные симптомы.
Такого рода ошибки тем более досадны, что их можно было бы избежать, и, конечно, нежелательно увеличивать ими число существующих в нашем деле неизбежных ошибок.
Нельзя, конечно, отрицать того факта, что упоминавшиеся сейчас модные направления всегда заключают в себе ядро истины и являются этапами прогресса наших знаний. Не следует лишь преувеличивать их значения и слишком увлекаться ими в ущерб старым, твердо установленным фактам.
Наряду с этими модными массовыми увлечениями существуют индивидуальные увлечения, склонность рассматривать все болезни с предвзятой общей точки зрения. У каждого из нас есть свой «конек»; таким коньком является прежде всего специальность, и иногда диагностические ошибки объясняются тем, что мы стремимся истолковать наблюдаемые явления с точки зрения своей специальности. Известны случаи операций по поводу предположенного хирургами аппендицита при табических кризах. Но и обратно, мы, невропатологи, просматриваем нередко весьма существенные заболевания вследствие узкого взгляда на наблюдаемые явления с точки зрения своей специальности. Вот почему при всяком диагнозе следует помнить не только о своей специальности. К сожалению, вследствие чрезвычайного расширения медицинских знаний все более и более трудным становится осуществление старого девиза: «Для того чтобы быть хорошим специалистом, необходимо быть хорошим врачом вообще».
Но «коньки» бывают и независимо от специальности. Некоторые смотрят на все болезни сквозь «сифилитический туман» и готовы, по удачному выражению одного английского врача, «назначить неосальварсан даже весталке». Другие во всем видят скрытую малярию и т.п.
Иногда причиной ошибок становится стремление обязательно поставить какой-либо диагноз при первом же осмотре. Следует иметь в виду, что во многих случаях не только после однократного осмотра, но даже после повторных, диагноз нельзя установить с точностью, несмотря на полноту и обстоятельность исследования. Это касается начальных стадий различных заболеваний. Как часто, например, начинающаяся опухоль спинного мозга не проявляется ничем иным, как «межреберной невралгией». Другим примером могут служить кратковременные, преходящие параличи глазных мышц (см. главу «Болезни периферических нервов»).
Припадки корковой эпилепсии чаще всего дают повод к диагнозу «опухоль головного мозга» или «сифилис». Но не следует забывать, что Джексоновские припадки могут наблюдаться и при других заболеваниях.
У нас в клинике находилась больная — молодая женщина, страдавшая частыми припадками Джексоновской эпилепсии. При повторных исследованиях никаких объективных уклонений у нас обнаружить не удалось. Под влиянием лечения люминалем припадки совершенно исчезли, и больная, считавшая себя выздоровевшей, выписалась с советом снова немедленно поступить в клинику в случае возобновления припадков. Через несколько месяцев больная вновь поступила в клинику с ясно выраженной картиной рассеянного склероза.
Такие случаи рассеянного склероза, начинающиеся Джексоновскими припадками, наблюдались нами неоднократно.
Ввиду существования таких форм, не поддающихся вначале точному диагнозу, иногда приходится воздерживаться от категорического диагноза.
Вообще следует положить за правило: после всякой диагностики дать себе отчет в возможных ошибках. Каждый опытный врач знает, что известная часть сделанных им ошибок объяснялась слишком большой уверенностью в своем диагнозе, и что иногда, после более или менее длительного наблюдения и повторных исследований, приходится отказываться от первоначального диагноза, казавшегося сначала неоспоримым. Каждый врач делал, конечно, такие «временные», впоследствии им самим исправляемые ошибки, и они являются, конечно, лучшим аргументом в пользу необходимости принимать во внимание возможность ошибки при каждом диагнозе.
В заключение несколько замечаний по поводу отношения врача к своим ошибкам. Диагностические и терапевтические ошибки, особенно если они влекут за собой вред для больного, являются источником тягостных переживаний. Но вместе с тем ошибки имеют для врача большое воспитательное значение: в одних случаях они являются напоминанием врачу о необходимости большего внимания, в других случаях они заставляют обновить или уточнить свои знания; они приучают врача к большей осторожности, подрывают его самоуверенность и поддерживают в нем дух сомнения, который так необходим для объективного наблюдения фактов.
Вы читали отрывок из книги "Неврология: избранные работы" - Аствацатуров М. И.
Купить книги по неврологии в интернет-магазине shopdon.ru
Книга "Неврология: избранные работы"
Автор: Аствацатуров М. И.
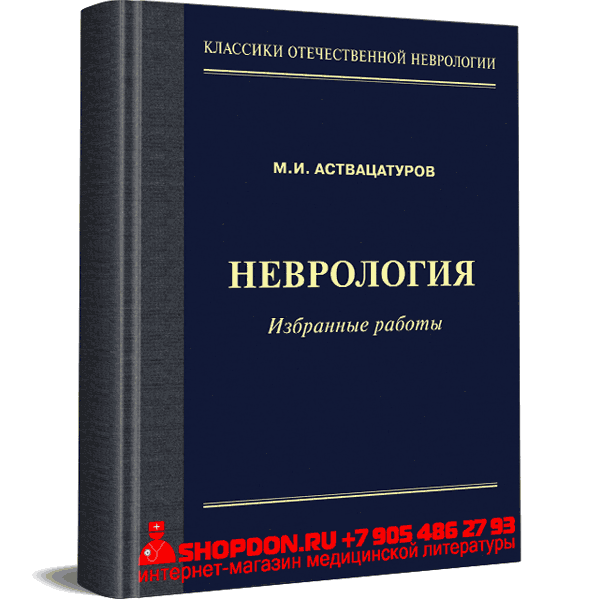
В современном издании уникальной книги классика отечественной неврологии М. И. Аствацатурова собраны его лучшие работы, которые являются наследием Российской клинической неврологической школы. Представленная в книге научная и клиническая информация содержит уникальный накопленный опыт, который способствует обучению последующих поколений неврологов.
В данном сборнике наиболее значимое место занимает замечательная работа М. И. Аствацатурова «Ошибки в диагностике и терапии нервных болезней», в которой он суммирует свой богатый опыт проницательного врача и излагает свои ошибки и их критику, что делает эту работу незаменимым настольным руководством не только для начинающего, но и для опытного врача-невропатолога. Не случайно это руководство превратилось в библиографическую редкость. Оригинальность изложения, доступность и высокое содержание позволяют нам «Ошибки в диагностике и терапии нервных болезней» поместить первым разделом этого сборника.
Данное издание увидело свет благодаря инициативе и стараниям профессора Сергея Владимировича Лобзика, который в снос время проходил обучение на кафедре нервных болезней имени М. И. Аствацатурова Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Сборник предназначен для клинических неврологов, специалистов, обучающихся в системе дополнительного медицинского образования, клинических ординаторов и аспирантов, студентов старших курсов медицинских вузов, а также всех интересующихся данной проблематикой.
Купить книги по неврологии в интернет-магазине shopdon.ru
Содержание книги "Неврология: избранные работы" - Аствацатуров М. И.
ОШИБКИ В ДИАГНОСТИКЕ И ТЕРАПИИ НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
I. Болезни головного мозга и его оболочек
II. Болезни спинного мозга
III. Заболевания периферической нервной системы
IV. Функциональные заболевания нервной системы
V. Симуляция нервных болезней
СИМПТОМАТОЛОГИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ В ОСВЕЩЕНИИ ЭВОЛЮЦИОННОГО УЧЕНИЯ
О парадоксальных рефлексах
О биогенетических основах симптоматологии поражений пирамидного пучка
О природе брюшных рефлексов
О филогенетической природе глубоких рефлексов
О рефлексах при паркинсоновском синдроме
О биологической сущности симптома Россолимо
О назолабиальном рефлексе
Метамерия и ее клиническое значение
Моторика человека
Рефлексы
БИОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАССТРОЙСТВ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
О реперкуссии и ее значении для объяснения некоторых клинических явлений
Об антагонистическом взаимодействии между различными видами чувствительности
Обзор современного положения проблемы боли
Роль нейрохирургии в эволюции учения о болевой чувствительности
О клинической индивидуальности периферических нервов
О паресгетических невралгиях и особой их форме — Notalgia paraesthetica
О роли психических факторов в возникновении и устранении болевых ощущений
О патогенезе каузалгических болей
Чувствительность
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
О психосоматическом взаимоотношении в невротических симптомах военного времени
О психосоматическом взаимоотношении при заболеваниях внутренних органов
О психосоматических взаимоотношениях при каузалгии
Соматические основы эмоций
Современные неврологические данные о сущности эмоций
О роли психики в механизме рецепторной функции
НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ
Нервная система и инфекционный процесс
Об истерической глухоте в связи со слуховыми травмами военного времени (истеротравматическая глухота)
Современное состояние учения о корковой локализации функций
О несовместимых болезненных явлениях в области нервной системы
О роли порочных кругов в механизме болезненных процессов
О случаях парадоксальной эффективности хирургических операций
Клинические данные для локализации рефлекторной неподвижности зрачков
О псевдоистерических элементах в экстрапирамидных симптомах
О психическом симптоме у постэнцефалитических паркинсоников. «Акайрия»
Речь
Патология нервной системы
Физиология и патология спинного мозга


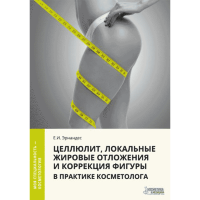
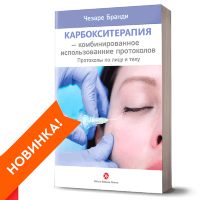
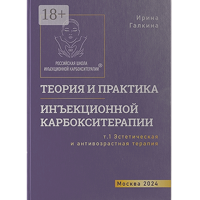
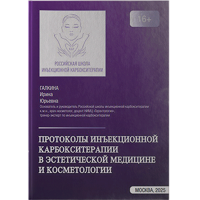
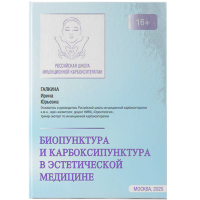
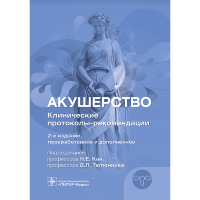

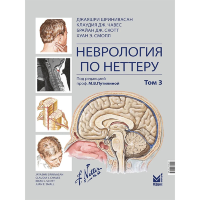
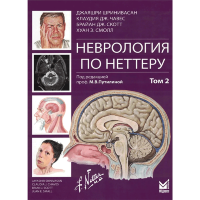

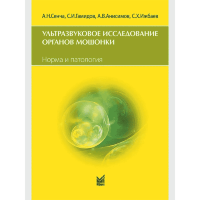
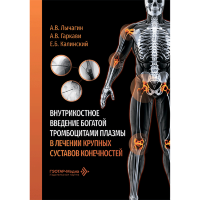
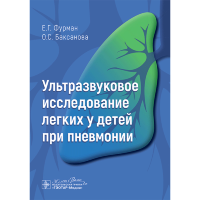
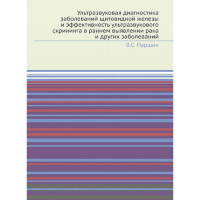

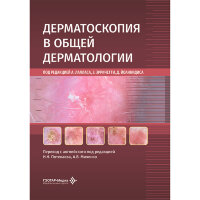
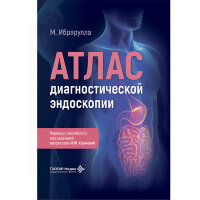
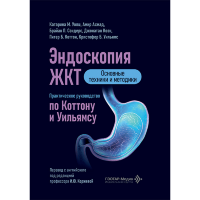

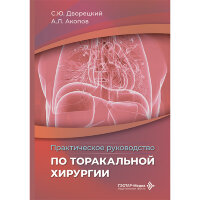
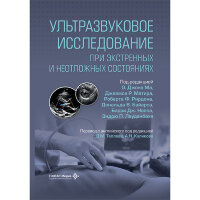
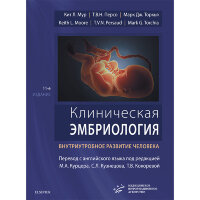
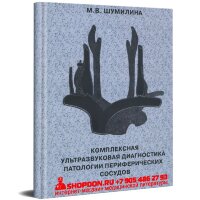
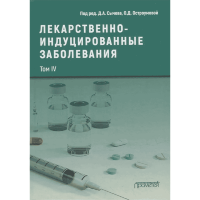
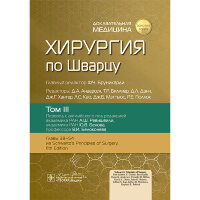
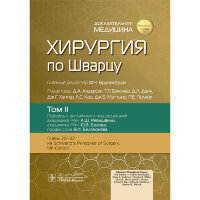


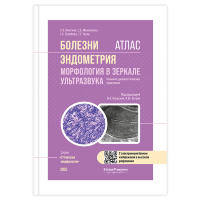

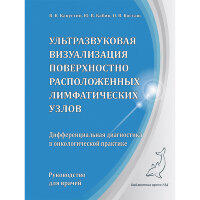
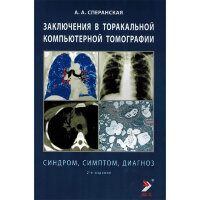
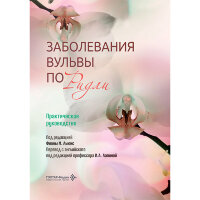
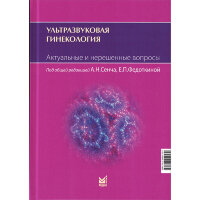
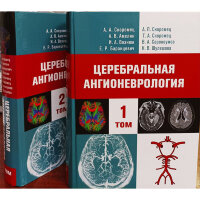
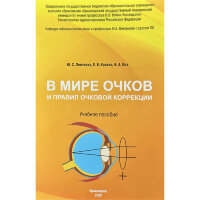
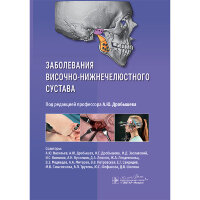

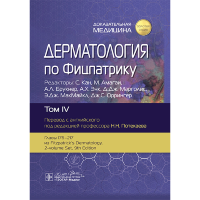
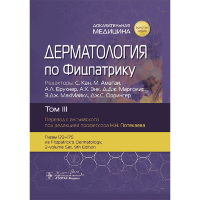
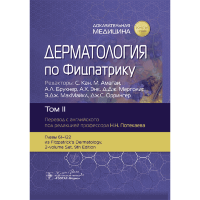
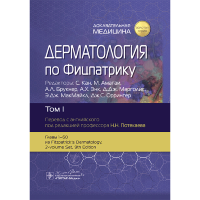
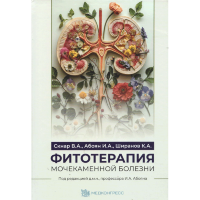
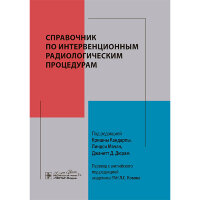
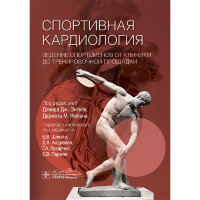
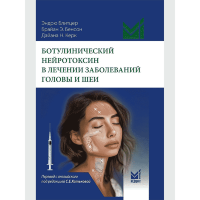
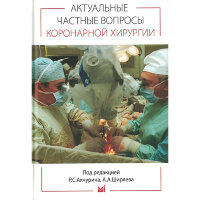
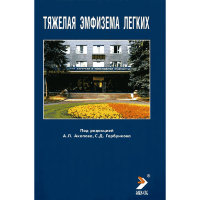
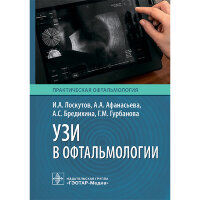
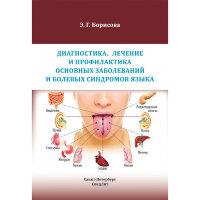
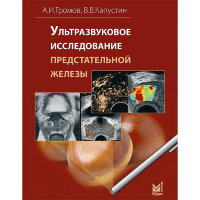
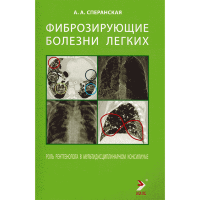
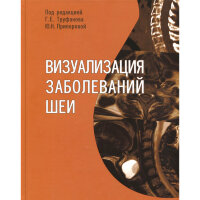
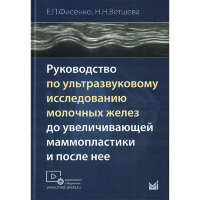
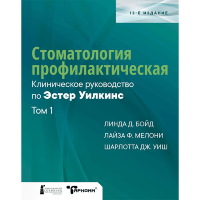
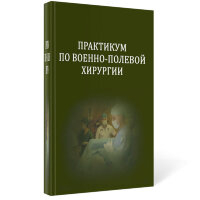

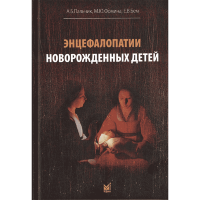
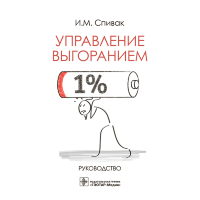
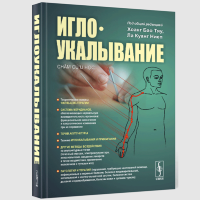
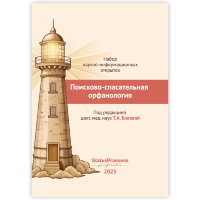

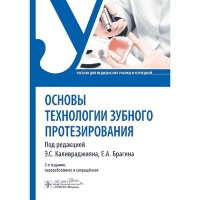
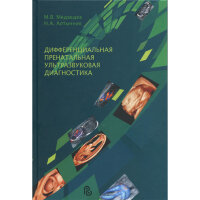
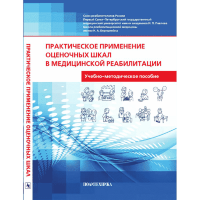
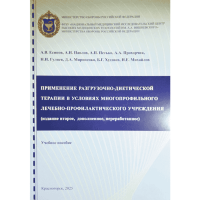
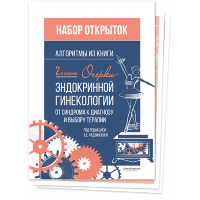

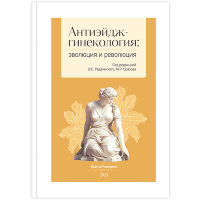
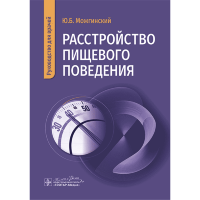
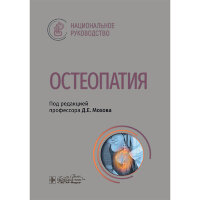
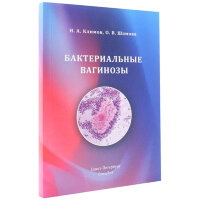
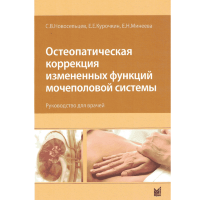
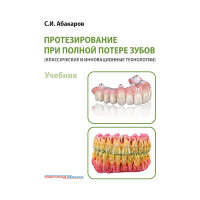
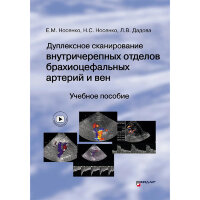
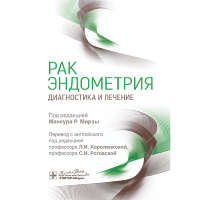
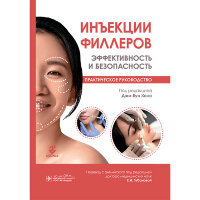
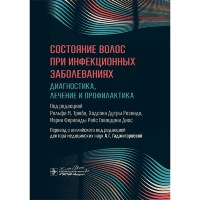
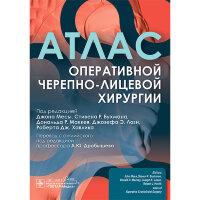
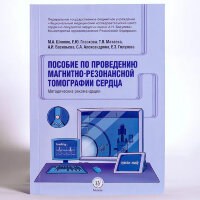
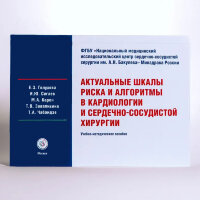
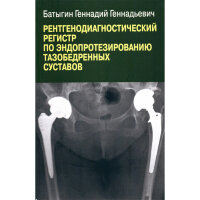
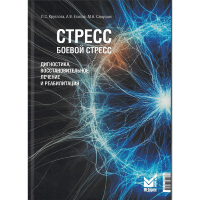
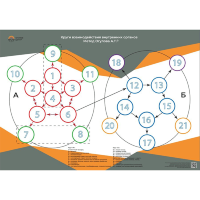
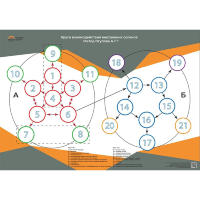
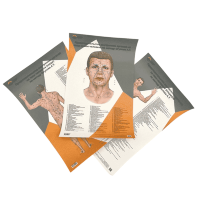
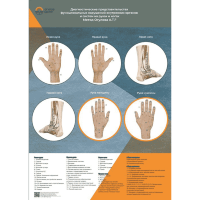
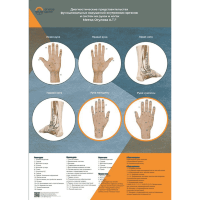
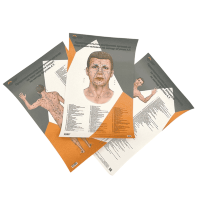
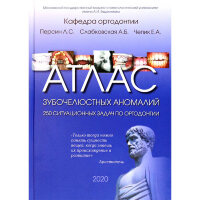

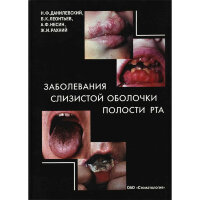
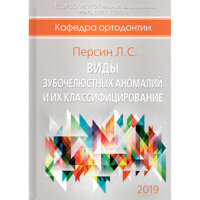
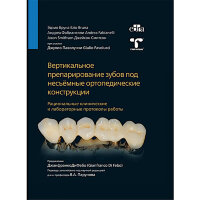
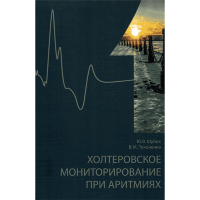
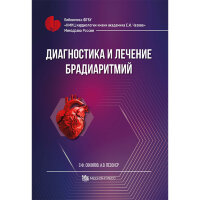
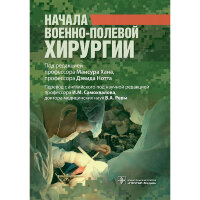
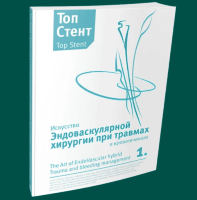

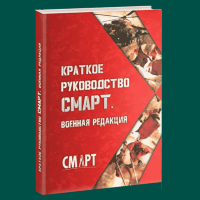
0 комментариев